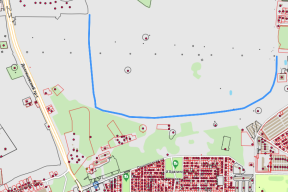При этом Беларусь, в отличие от России или Китая, не пытается выстроить собственную цифровую экосистему — создать «национальные» аналоги глобальных соцсетей.
Как диктатура приручает интернет: сравнение моделей Беларуси и России
В начале 2010-х, после Арабской весны, интернет казался главным врагом авторитаризма. Однако за прошедшее десятилетие недемократические режимы — в Беларуси и на всем постсоветском пространстве — научились использовать его в своих интересах и создавать свои модели цифрового контроля, пишет Центр новых идей.
Современные автократии больше не блокируют интернет — они его перепрограммируют, превращая в инструмент наблюдения, пропаганды и контроля. Автократы также адаптировали социальные сети, создав систему «управляемой открытости»: коммуникация формально разрешена, но только внутри заранее очерченных рамок. Цифровой контроль превратился в новый элемент авторитарной устойчивости.
Особенно отчетливо эти тенденции проявляются в постсоветском пространстве, где власть одновременно боится интернета и зависит от него как от инструмента влияния. Беларусь и Россия иллюстрируют две модели контроля за цифровым пространством: «легалистскую» и «инфраструктурную».
Российский подход пока менее репрессивен, но все равно подавляет свободу слова в значительной степени. К тому же, опыт беларуских протестов и ответ властей на них показывают, что Кремль может скоро перейти к беларуским методам онлайн-цензуры.
Беларусь: «легалистская модель» цифрового подавления
В 2020 году Telegram-каналы вроде пресловутого NEXTA, многочисленные чаты и группы сторонников перемен показали, как массовые действия могут начинаться с координации в онлайн-пространстве, как в нем создается чувство солидарности. Для власти это стало шоком: сеть превратилась в инструмент политической мобилизации, а значит — в угрозу.
В попытке подавить волну недовольства — а заодно собственный страх перед возможностью ее повторения — беларуские власти объявили почти все крупные независимые медиа и онлайн-ресурсы «экстремистскими формированиями». Их сайты, страницы и даже логотипы были внесены в список «экстремистских материалов». Та же участь постигла и общественные организации, чьи публикации не вписывались в официальный нарратив.
Сегодня достаточно просто подписаться на «неправильный» Telegram-канал, чтобы получить штраф или арест. В Беларуси свободное чтение, по сути, стало правонарушением.

Контроль распространился и на поведение пользователей: «неосторожные» лайки, репосты и даже комментарии, которые можно трактовать как оскорбление в адрес властей, приводят к наказаниям.
Дополняют эту систему регулярные «оффлайновые» проверки телефонов — особенно при пересечении границы, когда силовики требуют разблокировать устройство и проверяют подписки в мессенджерах.
Причина банальна: у государства нет ресурсов, кадров и инфраструктуры, чтобы конкурировать с гигантами вроде Telegram, YouTube или TikTok.
Технических барьеров, вроде национального фаервола, в Беларуси тоже нет. Контент «экстремистских» сайтов блокируется, но социальные сети формально доступны. Использование VPN-сервисов считается незаконным, однако на практике не наказывается.
Поэтому беларускую модель контроля над интернетом можно условно назвать «легалистской». Она строится не на технологическом контроле, а на правовом подавлении. Государство не блокирует, а криминализирует потребление независимой информации.
Вместо фильтров и фаерволов — уголовные статьи и бесконечные списки «экстремистов».
Кроме того, обвинения независимых медиа и социальных сетей в организации «цветной революции», якобы инспирированной Западом, органично вписываются в официальный нарратив. Власти снимают с себя любую ответственность за внутренние кризисы и насилие 2020 года.
Массовые протесты в этом объяснении — не результат собственных ошибок, а следствие «информационной войны», якобы развязанной против Беларуси с помощью «всесильных» западных платформ.
Россия: «инфраструктура модель» цифрового контроля
Если в Беларуси власть выбрала путь тотального запугивания, то в России ставка пока что делается на относительно точечное применение репрессивного законодательства, а также на создание собственной инфраструктуры «суверенного интернета».
Первые серьезные шаги по переводу российских пользователей на отечественные альтернативы были сделаны в 2024 году. Тогда в стране начала замедляться скорость YouTube.
В результате значительно выросли просмотры VK Видео, сервиса созданного под зонтиком контролируемой государством социальной сети VK. Уже в начале 2025-го размер аудитории этого сервиса превысил показатели YouTube.
А всего несколько месяцев назад были ограничены звонки и пересылка файлов в WhatsApp и Telegram — якобы для защиты россиян от мошенников, которые орудуют через эти мессенджеры.
На смену им активно продвигается «национальный» мессенджер MAX, также созданный при участии VK Group. Его предустановка на мобильных устройствах и интеграция с сервисами госуслуг должны обеспечить «удобную» и «безопасную» коммуникацию — фактически же это перенос частного общения граждан под прямой надзор государства.
Согласно официальным сообщениям самого мессенджера, им пользуются уже более 50 миллионов. А вот по опросам независимых социологов эта цифра составляет всего 6% от взрослого населения России — примерно 7 миллионов из около 120 миллионов совершеннолетних граждан.
Кроме того, переход на MAX активно навязывают бюджетникам, студентам, родителям в школьных чатах. Правда, есть свидетельства, что россияне массово покупают старые смартфоны, чтобы установить отечественный мессенджер лишь «для галочки».
Более того, почти 50% респондентов в одном из телефонных опросов заявили, что и вовсе постараются избежать его использования.
Самым же недавним шагом к постепенной изоляции российского интернета от внешнего мира стало регулярное отключение мобильного интернета в регионах. И это происходит не только там, где фиксируются атаки украинских дронов. Параллельно власти десятков регионов, формально, якобы «по инициативе мобильных операторов», одобрили так называемые белые списки сайтов, которые доступны только при условии прохождения специальной идентификации.
По сути, пользователю необходимо предоставить максимум персональных данных, чтобы получить доступ к «разрешенной части интернета».
Разумеется, в этих списках нет независимых медиа, а из мессенджеров и социальных сетей доступны только провластные платформы, в первую очередь тот же MAX. Насколько такая система укоренится, пока непонятно, но уже очевидно, что она может сохраниться и после войны.
Белые списки фактически рассматриваются как репетиция полноценного «суверенного интернета», с фаерволом от внешнего мира, возможно даже более жестким, чем в Китае.
Параллельно в России существует и правовая база для цифрового контроля — все более расплывчатое «иноагентское» и «антиэкстремистское» законодательство. Отдельные журналисты и редакции получают статус «иностранных агентов», что фактически приравнивает их к предателям и с большой вероятностью снижает доверие аудитории.
Самые активные представители независимых медиа — например, журналисты телеканала «Дождь» — включаются в перечень экстремистов и террористов, против них возбуждаются заочные уголовные дела за «фейки об армии» и «дискредитацию государства».
Все еще разные модели — общая цель
И все же, в отличие от Беларуси, в России пока не наблюдается тотального признания всех независимых источников «экстремистскими». Чтение независимых СМИ или подписка на их соцсети не криминализированы.
Даже новый закон об «умышленном поиске экстремистских материалов» пока не применяется. К тому же в списки этих материалов пока не внесены ключевые оппозиционные ресурсы — государство действует избирательно, а не поголовно.
Причина различий c Беларусью — не только в том, что у российских властей есть ресурсы для создания собственных цифровых сервисов. Россия еще в 2000-х построила устойчивую IT-экосистему — от VK до Яндекса.
Важнее то, что в РФ пока нет массовой протестной волны, сопоставимой с беларуской в 2020-м. При отсутствии масштабного внутреннего кризиса Кремль может действовать постепенно, не рубя с плеча и не провоцируя раздражение у лояльной части общества.
Тем не менее логика развития очевидна. Запреты вводятся по шагам: сначала замедление YouTube, затем ограничения на WhatsApp и Telegram, затем — белые списки и региональные отключения интернета.
Если возникнет серьезный внутренний вызов, российские власти могут отказаться от постепенного подхода и перейти к жесткому сценарию — массовым запретам, сплошной «экстремизации» независимых ресурсов и закрытому «интернету по пропускам».
Более того, и без таких серьезных кризисов различия между российской и беларуской моделями стираются. Как видно на графике выше, обе страны движутся по общим траекториями — к конвергенции цифрового авторитаризма.
Государство в России и Беларуси перестало обороняться, теперь оно атакует свободный интернет, подчиняя его и распространяя в нем свою идеологию.
В этом плане обе страны оказываются в одном ряду с другими жесткими автократиями, вроде Китая или Ирана, жестко фильтрующими контент.
Оцените статью
1 2 3 4 5Читайте еще
Избранное